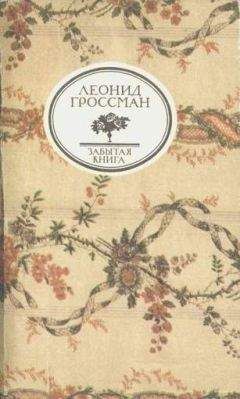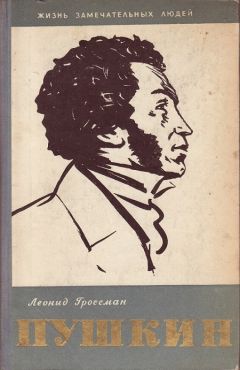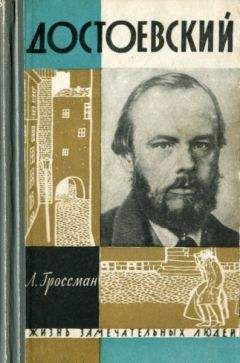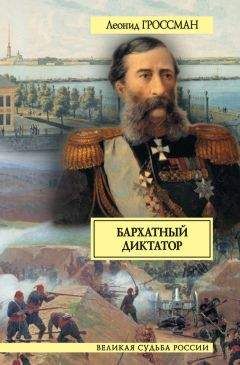Леонид Гроссман - Записки д`Аршиака, Пушкин в театральных креслах, Карьера д`Антеса
— Ты прав, отец, — заявил Жорж, — у меня слагалось такое же решение: по возможности нанесение легкой раны, но в случае крайности — быстрота, меткость и беспощадность. Я добился поединка — я отстою в нем и честь и жизнь! Если потребуется, поверьте, я сумею действовать так, что Пушкин не даст и одного выстрела! Я отправлю его к праотцам прежде, чем он успеет об этом подумать, и, уж во всяком случае, раньше, чем он спустит курок.
Я взглянул на часы. Время встречи приближалось. Барон подошел к Жоржу, обнял обеими руками его голову и долго не прерывал своего прощального поцелуя.
— Я верю в тебя и в нашу победу, — сказал он наконец, — помни же: по возможности быстрое и осторожное маневрирование, в случае необходимости — беспощадный смертельный удар.
XII
Мы вышли от Геккернов. С Невы дул сильный ветер, поднимавший снежную пыль и безжалостно трепавший пелерину на шинели д'Антеса. Мы сели в извозчичьи парные сани и понеслись к далекой Комендантской даче, месту завершения разыгравшихся событий.
Жорж был изумительно спокоен. Он казался только несколько серьезнее обыкновенного. Мастерство в стрельбе, прославившее его еще в Сен-Сире, должно было сообщать ему уверенность и внутреннюю твердость.
Словно угадывая мои мысли, он произнес:
— Пушкин — великолепный стрелок. Жена рассказывала мне недавно о его бретерстве. Он не раз выходил к барьеру, но никогда еще не был ранен…
— Он служил когда-нибудь в войсках? — спросил я.
— Нет, но всегда мечтал об этом и, кажется, готовился к военной карьере. Еще в Лицее дружил с гусарами, затем где-то на юге, куда он был сослан в молодости, вращался в обществе офицеров, кутил с ними, сражался в карты и, видимо, состязался в искусстве владеть пистолетом. Говорят, он простреливает туз на тридцати шагах.
— А ты, Жорж?
— Я с любого расстояния, — усмехнулся он.
Мы свернули на Дворцовую набережную. Воздух начинал чуть-чуть синеть. К нам навстречу неслись бесчисленные сани, развозившие петербургскую знать с модного развлечения — катаний по льду Невы.
Эти северные состязания пользовались в то время в Петербурге всеобщим успехом. Конские ристалища по застывшей реке или простонародные катанья с гор одинаково увлекали общество столицы, гвардию и двор. Издалека мы могли наблюдать последние заезды. В дробном звоне и переливчатой перекличке бубенцов проносились на своих стальных лезвиях широкие, низкие сани, увлекаемые тройками великолепных коней. Мы невольно залюбовались этими мощными скакунами с огнедышащими мордами, напряженными мускулами и серебрящимися от инея гривами под расписными дугами и тяжелыми металлическими украшениями русской упряжи. Огромный овальный путь, вычерченный полозьями по массивному стеклу реки и отгороженный пикетами с протянутыми канатами, представлял собою поле состязания, идущее от самого Адмиралтейства до конца Зимнего дворца. Вокруг по льду реки, по набережным и мостам расположилось множество экипажей, саней, троек, карет с радостно возбужденными зрителями. Самые знаменитые жокеи Парижа и Лондона не привлекают к себе во время прославленных королевских скачек такого жадного внимания, как эти силачи-кучера в четырехугольных бархатных шапках, в зеленых и синих кафтанах с блестящими пуговицами по бокам. Быстро несясь к нашей цели, мы успели оглядеть беглым взором эту редкостную картину зимних катаний на Неве.
Но зрелище уже, видимо, заканчивалось. Последние тройки описывали свои эллипсы по мутному стеклу неподвижной реки; последние любители сильных ощущений низвергались на крохотных салазках с высоты снежных склонов Невы, чтобы волнообразно нестись по кривым уступам особого ледяного хребта.
Толпа редела. Два конногвардейца успели крикнуть из своих саней д'Антесу, что мы запоздали на гулянье. Молоденькая Воронцова лукаво и весело улыбнулась нам на наш поклон. Внезапно Жорж вздрогнул и резко повернул голову. Я взглянул в том же направлении.
Нам навстречу, уже почти вровень с нашими лошадьми, катил открытый экипаж. С возвышения рессорного кузова, слегка колеблясь от быстрого движения коляски, легко и грациозно кутаясь в черный соболь, на нас смотрела прозрачными и радостными глазами она, прекраснейшая из прекрасных. Мороз, покрывший легким румянцем ее бледные щеки, матовый налет инея на выбивающихся из-под меха пепельных прядях, оживление от зрелища и движения — все это придавало ей неожиданное сходство с юной русской девушкой, закаленной и украшенной своей северной природой. Она мгновенно промелькнула перед нами с сияющей улыбкой ответного приветствия, в неизменном великолепии своего спокойствия, блаженного неведения людей и надземного непонимания их страстей, вожделений и ненавистей.
У меня больно сжалось сердце. Железная рука смерти уже высоко взметнулась над ней, — а она, не видя, не зная, не чувствуя опасности, триумфально сияла бесстрастными улыбками и по-прежнему скользила по нашей кровавой и жестокой действительности каким-то магическим и бесплотным виденьем.
— А ведь знаешь, — произнес д'Антес через минуту, когда мы уже пересекали ледяную равнину Невы и неслись в направлении колокольни Петра и Павла, — а ведь знаешь, что бы там ни было, я, вероятно, в последний раз только что увидел ее. Ты понимаешь — никогда, никогда больше…
Я захотел возразить, но не нашелся. Внезапно я понял, что для д'Антеса ужас предстоящей дуэли был только в этом. Независимо от исхода поединка, он навсегда терял всякую возможность продолжать свой роман, надеяться, добиваться и верить в счастливое достижение. Неизбежная разлука сегодня обрывала его трехлетнюю страсть. В этом отношении расчет Пушкина был безошибочным. Кровавым столкновением, хотя бы даже ценою жизни, он решительно и бесповоротно отстранял соперника от своей жены.
Через несколько минут мы уже мчались за городом по глубокому снежному пути. Резкий ветер засыпал нам глаза острой снежной пылью и с протяжным гуденьем кружил ее белым циклоном вдоль дороги. Смеркалось. Оглянувшись, я увидел за собой другие сани. Два вороных коня, пущенные рысью, словно вдогонку нам, мчали седоков по нашим следам.
Наш возница круто осадил лошадей, и они стали как вкопанные у рва Комендантской дачи. Мы прибыли на условленное место к обледенелому потоку с траурным именем. Мне вспомнилась летняя поговорка кавалергардов: «житье-бытье на Черной речке очень веселое»…
Крепко сжимая свой тяжелый лакированный ящик, я отбросил полость и ступил в глубокий снег. В этот момент завизжали полозья догонявших нас саней, раздался храп коней, и полковник Данзас, неся громоздкий предмет под своим форменным плащом, подошел ко мне, слегка прикоснувшись к своей офицерской треуголке с черными перьями.
— Нам нужно отыскать удобное место где-нибудь в стороне, — сказал он мне, — не стреляться же на глазах у извозчиков.
Я указал на маленькую рощицу, чернеющую вдалеке. Густой кустарник мог служить нам превосходной завесой.
Все вчетвером мы зашагали в указанном направлении. Действительно, кустарник округлял площадку, довольно просторную и совершенно скрытую от дороги. Но пласт снега здесь лежал по колено. Сходиться и маневрировать противникам было невозможно. Необходимо было утоптать снег и устроить маленький плацдарм для поединка. Полковник Данзас, в качестве военного инженера, умело руководил этой полевой работой. Мы с Жоржем усиленно помогали ему. Пушкин отошел в сторону и, закутавшись в свою медвежью шубу, сел на какой-то пень и стал наблюдать за приготовлениями.
Но так как работа наша требовала некоторого времени, он, видимо, начал нервничать. С этого момента и почти до самого отъезда с места поединка Пушкин не переставал проявлять раздраженность и нетерпение. Через несколько дней после дуэли, по просьбе князя Вяземского, я писал ему, что в продолжение всего дела спокойствие, хладнокровие и достоинство обеих сторон были совершенны. Иного я и не имел права писать над раскрытой могилой убитого поэта, — но, по совести, я не мог этого сказать о Пушкине. Затмение духа продолжало владеть им во все время поединка и совершенно разрушало в моих глазах представление о нем как об опытном дуэлисте и знаменитом бретере. Европейская выдержка и спокойствие светского человека, которыми он в таком совершенстве владел в обществе, изменили ему на месте встречи. Он был возбужден, экспансивен, нетерпелив, несдержан. За несколько минут приготовлений к поединку и самого обмена выстрелами он говорил и делал много лишнего. Спокойная сдержанность смертельной вражды, к сожалению, ему не была свойственна. Африканская ли кровь предков лишала его строгой невозмутимости, свойственной в такие минуты европейцу, широта ли и распоясанность русских нравов, непривычных к самообузданию, но только и здесь, перед барьером, он, видимо, мучительно метался и не сумел скрыть своего возмущения и гнева под ледяной корой безукоризненного самообладания. Он словно не стеснялся обнажать перед нами свою вражду и мстительность. В эту минуту его великий поэтический гений был совершенно заслонен темными порывами неукротимой страсти.